Главный археолог Москвы Леонид Кондрашев — о тайнах Златоглавой, кремлевских легендах и находках, скрытых веками
15 августа — День археолога. И да, Москва — это не только лавандовый раф и очереди за вкусными круассанами. Под нашими ногами — стоянки древних племен, крепостные стены, купеческие подвалы и, возможно, легендарная библиотека Ивана Грозного. О том, как искать прошлое и собственное наследие в центре мегаполиса, зачем археологам мифы и где земля хранит самые интересные сюрпризы, мы поговорили с главным археологом столицы Леонидом Кондрашевым.
— Когда начинается история нашего города: много ли на территории Москвы и конкретно Кремля находок доисторического периода?
— Не много, не мало, а ровно столько, сколько и должно быть. Действительно, история нашего края началась не с прихода сюда славян и даже не в то время, когда здесь бытовали их предки.
Как всем известно, Каменный век делится на палеолит (древнейший), мезолит (средний) и неолит (новейший). После этого по мере освоения металла наступает Бронзовый век и за ним — Железный.
Самая древняя история связана с наползанием и последующим уходом ледника. Чтобы люди могли здесь жить, должна была быть кормовая база; они должны были научиться выживать в условиях холода и сурового климата. И это случилось.
И вот первая загадка: артефакты и захоронения самой древней эпохи, относящиеся к палеолиту, находили южнее Москвы, что можно было бы объяснить тем, что люди сюда не заходили, но находили их и севернее Москвы. Получается, перемещение мелких семейных групп происходило и дальше на север, а в Москве находок не было.
Так продолжалось до тех пор, пока академик Деревянко (основной интерес которого был сосредоточен на Урале; он из Новосибирска и был секретарем историко-филологического отделения Академии наук) приехал по делам в Москву. Гуляя в Нескучном саду, он своим опытным взглядом увидел орудие, относящееся к палеолиту, — и тем самым снял загадку отсутствия древних находок в Москве.
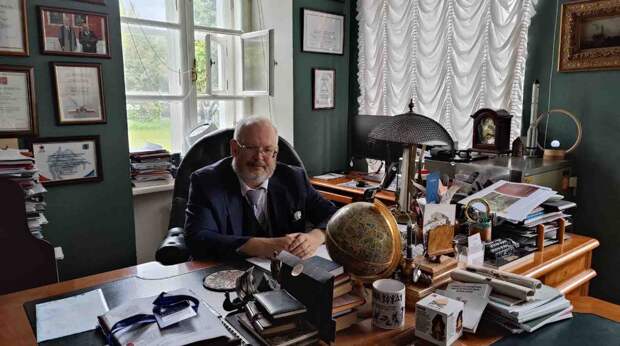
— А что показали дальнейшие археологические исследования?
— Позже наши коллеги — археологи проводили исследования, связанные со строительством Третьего кольца, и вышли на пластование грунта. Надо понимать, что к Каменному веку не относится классический культурный слой: людей тогда было мало, на одном месте они не оставались, а стоянки были временными. Поэтому археологи работают совместно с геологами и почвоведами, чтобы выделить такие горизонты напластований.
В итоге оказалось, что сейчас, грубо говоря, мы видим, как от Ленинского проспекта террасами ландшафт спускается к Москве-реке. А в древности, примерно 30 тысяч лет назад, было наоборот: река Москва протекала там, где сейчас проходит Ленинский проспект! И угол ее течения был в другую сторону. Позже река прорыла себе новое русло, и тогда уже сложился тот ландшафт, к которому мы привыкли.
— Какие находки в Москве относятся к неолиту?
— Много находок относятся к неолиту — эпохе, которую можно назвать «эпохой рыбной диеты». Люди поняли, что рыболовство стабильно обеспечивает их пищей. И сейчас все считают рыбу полезной по сравнению с мясом, а тогда она еще и была более доступной. Поэтому древние люди стали останавливаться на дюнах около рек.
Таким местом, например, было побережье Москвы-реки — находки встречаются даже у Большого театра. Сейчас идет реставрация Воспитательного дома, а это как раз место, где, с одной стороны, Москва-река разливалась и заливала низины, а с другой — оставались песчаные дюны, которые не покрывались водой. Видимо, там люди останавливались: место было удобным для рыбалки, о чем говорят найденные предметы, связанные с ловлей рыбы.
Дальше люди начинают изготавливать орудия из бронзы. От Атлантики практически до Урала известна так называемая культура боевых топоров. Эти топоры каменные, шлифованные, но уже относятся к Бронзовому веку, то есть использовались наряду с металлическими изделиями. Ученые спорят: были ли они реальным оружием или же имели церемониальное значение. Но главное, что таких находок очень много, и чаще всего — в сломанном виде. Особенно часто они встречаются возле Москвы-реки.
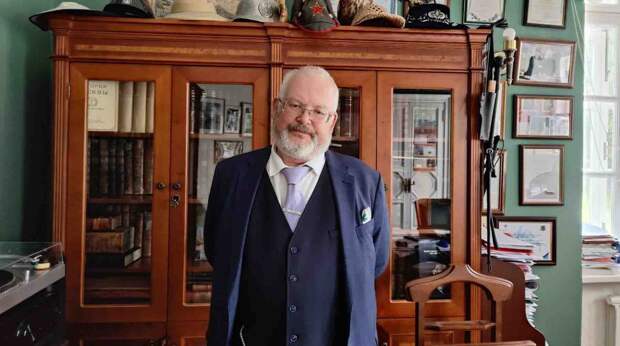
— Что известно о Железном веке в Москве, эпохе, когда уже появились Древний Рим и Греция, а Египет и Вавилония с Персией тогда процветали?
— Позвольте вам рассказать сперва интересную историю о сложном человеке из конца XVIII — начала XIX века. Он был поляком, дезертиром из русской армии, за что, видимо, был отправлен в ссылку в Сибирь. Вероятно, польские покровители сделали ему фиктивную справку о смерти, и он смог вернуться. Этот человек вошел в историю как Зориан Доленга-Ходаковский.
У него была, в принципе, правильная идея: в то время считалось, что археология возможна только в южных районах страны, где была античность — древнегреческие и древнеримские культуры. А в Центральной России, мол, ничего нет.
Доленга-Ходаковский же хотел задокументировать археологические памятники древних славян. Рядом с селом Коломенским, которое было царской загородной резиденцией, он нашел большой холм, который считал древним славянским капищем. Позже, уже в XIX веке, археологи доказали, что он ошибся. Однако главная заслуга Доленга-Ходаковского в том, что он предположил и подтвердил: археология есть и в средней полосе, в том числе и в Москве!
Эти исследования касались городищ Железного века. Современные ученые, изучая пыльцу древних растений, установили, что на протяжении полутора тысяч лет здесь сохранялось абсолютно экологичное хозяйство: поля, луга, кормовые угодья оставались на своих местах с VII века до нашей эры по VII век нашей эры.
— Самый главный вопрос, который интересует нашу редакцию: вы чуть-чуть упоминали Римскую империю и Византию. Скажите, в Москве много ли находок, связанных с ними?
— В эпоху Железного века территория Москвы находилась на периферии Римского мира. Формально эти земли не входили в состав империи, но меновая торговля и культурное взаимодействие существовали. Иногда мы находим провинциальные римские вещи, но тут важно не путать: коллекционеры и позже могли терять монеты и предметы. Поэтому каждая находка требует анализа — это действительно артефакт из античности или более поздняя потеря.
Если говорить о Древнем Риме в эпоху больших завоеваний, то в римские легионы часто привлекали людей из других стран. Это не были наемники в современном смысле, но такие воины, вернувшись домой, приносили с собой римские вещи.
В основном находки относятся к имперскому периоду. Некоторые вещи начинали производиться уже в странах, формально не входивших в Рим, но находившихся под его влиянием. Такие предметы мы находим у нас — через торговлю они попадали и в наши леса.
Среди находок есть амфоры типа Трапезунд с вином, иногда с надписями, стеклянные сосуды, привезенные из Черноморского региона. Все это — следы широких торговых контактов. Важно: наличие таких предметов не означает, что территория входила в состав Римской империи или контролировалась Римом. Это — следы торговли и культурного обмена. А более поздних, византийских, находок в Москве уже много!

После византийского периода, когда Османская империя закрепилась на берегах Босфора, появилось много турецких предметов. Особенно много их стало в России после начала русско-турецких войн — например, целый пласт курительных трубок, называемых турецкими.
Эти места всегда находились в широком культурном контексте: что-то мы брали с Востока, что-то — из Европы. Проследить эти связи на реальных находках очень интересно, и в этом русская археология — увлекательная наука.
— Когда и как на территорию будущей Москвы пришли славяне?
— Как я уже сказал, здесь оставались балто-финские племена. Проблема в том, что их археологически сложно четко выделить. Но начиная с X века в бассейн Москвы-реки начинают проникать и сталкиваться два крупных миграционных потока. Первый — это славянские племена, которых с юга подталкивали кочевники, прежде всего печенеги. Известно, что на территории будущей Москвы обосновалось племя вятичей, пришедших с юга.
Второй поток — с запада. Его сдвинул Карл Великий, захватывавший новые земли в Западной Европе. Западные славяне с территории современной Германии переселялись на восток — в район Новгорода, Смоленска и в том числе в Москворецкий регион. Это были главным образом кривичи. Здесь же продолжали жить и балтские племена. Например, в Москве есть речка Галинка (Галиданка), название которой происходит от этнонима «галинды» — «люди с окраины» на балтском языке.
Таким образом, в регионе формируется своеобразное смешение родовых племен. Однако заселение проходило относительно мирно. Финно-балты предпочитали селиться на берегах маленьких речушек, а славяне — возле больших рек. Это позволило избежать массовых столкновений.
— Что происходило на этих землях, когда на Русь пришел варяг-викинг Рюрик, до нашествия монголов?
— В X веке, на территории Донского монастыря, член-корреспондент РАН Леонид Андреевич Беляев обнаружил памятники, с которых мы начинаем отслеживать непрерывную историю Москвы.
Дальнейшие события чем-то напоминают сюжеты о «лихих 90-х». Сельское хозяйство требовало больших трудозатрат, а всегда находились люди, которые предпочитали не производить, а отбирать чужое. Возник вопрос: кто будет защищать плоды труда?
В это время рядом, в Скандинавии, земля не могла прокормить всех. Старший сын получал хозяйство, а младшие уходили в викингские походы. Эти отряды представляли собой сборные шайки людей разных национальностей: приходишь в дружину — получаешь свою долю добычи. Поначалу викинги плавали по морям, но постепенно стали проникать и вглубь материка, пересаживаясь на небольшие речные лодки. Так они доходили до Персии и Византии, где могли как торговать, так и грабить.
При этом самым прибыльным делом оказалось не пушнина, как писали в учебниках, а поставка наемников в Константинополь. Наиболее дальновидные предводители дружин поняли, что выгоднее не грабить и даже не просто торговать, а «крышевать» — брать дань с местных племен. А разумные вожди племен предпочитали заплатить натурой и не отвлекать людей от хозяйства. Так формировалось раннесредневековое общество, где выделялась военная верхушка во главе с князем.

Право возглавлять такие формирования и собирать дань постепенно закрепилось за семьей Рюрика. Не случайно Юрий Долгорукий женил своего сына на дочери легендарного Кучки — местного предводителя, что считалось престижным союзом.
Археология позволяет выдвинуть гипотезу, что Москва не возникла сразу как укрепленный центр в Кремле, а представляла собой конгломерацию сельских поселений вокруг него.
Кремль, находившийся на холме, играл роль городища-убежища. Выбор места был не случайным: здесь ранее находилось городище Железного века, со склонами, уже подготовленными для обороны. Со временем отдельные села слились, и Кремль стал княжеской резиденцией, а затем административным центром. Рядом располагался торговый порт (на территории нынешнего Зарядья), откуда при опасности можно было быстро уйти за кремлевские стены.
Затем произошло нашествие монголов. Наиболее дальновидные князья, в том числе московские, поняли, что можно использовать жесткую вертикаль власти в свою пользу. Москва стала феноменом развитого средневековья: в условиях такой системы было важно жить рядом сначала с великим князем, а позже — с царем.
Вокруг Кремля выросли посады, где селились наиболее знатные и обеспеченные семьи. Для археологов это настоящий подарок: здесь находят множество ярких и хорошо сохранившихся предметов быта.
Средневековая археология в Москве дает особенно много информации о том, что в летописях не фиксировалось. Письменные источники сообщают в основном о войнах, договорах и крупных событиях, а то, что ели люди, как готовили, во что одевались, в чем хранили продукты, — мы узнаем именно из археологических раскопок. Даже для XVIII века археология помогает уточнить детали повседневной жизни.
— Это удивительно!
— Например, в рамках программы благоустройства (известной сначала как «Моя улица») исследовали культурный слой прямо на улицах, а не только в отдельных раскопках. Оказалось, что места самых популярных лавок можно определить по количеству найденных оторванных пуговиц. Иногда встречались и небольшие клады мелких монет — видимо, потерянные в толпе. Эти находки помогают буквально «прочертить» карту оживленных мест прошлого.
Или другой пример: иностранцы отмечали, что москвичи были азартны, но предпочитали интеллектуальные игры. Самой популярной была игра в шахматы. Рядом с нынешней Кропоткинской площадью, за оврагом Чертолья, археологи нашли фигурку, выточенную из кости, которая раскручивалась. Внутри хранились серебряные копейки — своеобразный «тайник» игрока, не желавшего хранить деньги на виду.
Москва интересна историкам и археологам не только как нынешняя столица, но и как город с уникальной историей: она была и столичным, и не столичным центром, что отражается в археологических материалах и дает богатую почву для осмысления ее прошлого.
— Скажите, узнали бы современные москвичи Москву времен Юрия Долгорукого, если бы туда переселились?
— Скорее всего — нет. Москва того времени была совсем иной. В эпоху Юрия Долгорукого это несколько деревень и городище-убежище (Кремль), окруженные полями, завязанными на источники воды. С ростом княжеской власти происходил и рост города: к Кремлю присоединялся Великий посад.
Мы находим поселения и на другом берегу Неглинной (район Романова переулка), а также артефакты XII века на краю Китай-города (Чижевское подворье). Это меняет представления: Москва была больше, чем считалось раньше. Даже в более поздние времена иностранцы удивлялись: Москва огромна, но внутри города есть огороды, скотина — элементы сельского хозяйства. В Европе город имел отдельный правовой статус, был тесным и многоэтажным, а Москва выглядела как большая деревня. Так, скорее всего, было и в раннем Средневековье.

— По археологическим данным можно ли понять, кто сжег Москву в 1812 году — французы или мы сами?
— Археология фиксирует факт пожара: мы находим следы горения, пули, пробитые кирасы. Но определить виновных археология не может. Историки спорят: французские источники утверждают, что Ростопчин приказал сжечь город, русские — что это сделали французы. Археолог может только констатировать, что пожар был, но ответить на вопрос «кто именно?» — это уже не к нам.
— Могут ли под Москвой находиться загадки уровня Трои?
— В археологии нет спортивного принципа, когда одна находка важнее другой. Любой научный факт ценен. Сначала на основе данных формируется научная гипотеза, затем идет ее проверка — публикации, доклады, обсуждения с коллегами. И только после достижения согласия она становится научным фактом.
Пример: Генрих Шлиман, искавший Трою, сначала промахнулся и раскопал более древний слой. Но это все равно дало много знаний. То, что мы сейчас раскапываем и осмысляем в Москве, не менее важно, чем «громкие» открытия. Археология ценна тем, что дополняет письменные источники: многие события не описаны в документах, и только археологические находки позволяют их реконструировать.
Одна проблема: артефакты «молчат». Они «заговорят» только после анализа. И возможно, наши последователи узнают что-то еще более важное и интересное, но только после того, как докажут и зафиксируют это научно.
— Что думаете о библиотеке Ивана Грозного? Существует ли она и стоит ли искать ее в Москве?
— Думаю, она существовала, но, скорее всего, не как единое собрание, а в виде отдельных книг, разбросанных по разным коллекциям. В смутное время польский гарнизон, находившийся в Кремле, голодал, и много ценностей было растащено. После переезда столицы тоже многое утратилось.
Существует легенда о сундуках в кремлевских подземельях. Ее активно развивал Стеллецкий, называвший себя археологом. Но хранить собрание в сундуках в сырости — значит гарантированно его погубить.
Но, как положительный момент, такие легенды подогревают интерес к истории — и это тоже важно.

— По поводу рек Москвы — вы упоминали и Неглинку. На данный момент они все исследованы? И имеют ли они археологическую ценность?
— Сейчас это коллекторы. Москва часто страдала от наводнений, и русла рек были спрямлены. Например, Неглинка от Театральной площади уходит напрямую в Москву-реку — фактически по современной трубе.
Есть энтузиасты, которые пытаются проводить экскурсии, но это опасно — уже был смертельный случай. По берегам старых русел можно находить интересные археологические артефакты. Существует идея сделать из старых коллекторов подземный музей, но тут масса сложностей — как выводить воду при дождях или таянии снега, как обеспечить безопасность. Самое ценное — человеческая жизнь, и относиться к подземным экскурсиям надо очень осторожно.
— В преддверии вашего профессионального праздника: насколько сейчас археологу легко найти работу?
— Найти работу археологу легко, потому что специалистов не хватает.
Другое дело, что у многих романтическое представление об археологии. На практике большинство работ — спасательная археология, связанная со стройками. Это тяжелый труд.
В России мало учебных заведений и специализированных кафедр, выпускающих археологов, поэтому ощущается дефицит кадров.
— А конкретно в вашем Департаменте культурного наследия — много ли людей с археологическим образованием, чем они занимаются и какие у них перспективы?
— Наш департамент — уполномоченный орган исполнительной власти.
Я сам начинал как практикующий археолог, но постепенно перешел к административной работе. Наша задача — не проводить раскопки, а обеспечивать возможность их проведения, чтобы коллеги-археологи могли выполнять свои исследования в рамках закона.
В археологическом подразделении около 90% сотрудников — бывшие практикующие археологи. Мы присматриваемся к тем, у кого есть административные способности, и переманиваем их.
Кроме того, готовим кадры: в Московском университете управления имени Лужкова мы заинтересовываем студентов, берем их на практику и стажировку. Так что мы не только «перетягиваем» специалистов из организаций, но и выращиваем молодых сотрудников.
Свежие комментарии